
- Орангутаны научились использовать орудия с выгодой для себя [2019-03-22]
- Мозг собак отличил настоящие слова от тарабарщины [2019-03-22]
- Какаду Гоффина выклевали палочки из картонки и использовали их в быту [2019-03-22]
- Орангутанов уличили в создании крючков [2019-03-22]
- Любовь самок гуппи к ярким самцам объяснили генами и освещением [2019-03-22]
- Орангутаны рассказывают друг другу о прошлом [2019-03-22]
- Блеск и нищета этологии [2018-05-03]
- Почему хозяева похожи на своих собак? [2018-03-15]
- Интервью с Анатолием Протопоповым [2019-02-13]
- Цирки: развлечение vs мучение [2018-12-15]

1. Почти невозможная история
История была издавна предметом религиозных и философских доктрин. Люди нуждались в объяснении и оправдании своей истории. Подобно тому, как отдельный человек хотел иметь благородных, достойных уважения предков, все человечество нуждалось в высоком, респектабельном происхождении.
Библия говорит, что всемогущий и всеведущий бог создал человека по своему образу и подобию, и что вся человеческая история, до мельчайших подробностей, следует предустановленному божественному плану. Цели и средства этого плана нам неизвестны, они зависят от неисповедимой воли господней. Тем не менее, особая богословская доктрина, именуемая «теодицеей», занималась ее истолкованием и оправданием. Все несчастья, случившиеся с людьми, приписывались их собственным прегрешениям, которые, впрочем, заранее предвидел всеведущий и всемогущий бог. История этих бедствий длилась так долго, что нужна была очень твердая вера в мудрость и благость Провидения.
В Новое время объяснением истории занялись философы. Даже в девятнадцатом веке особым уважением пользовалась философия истории Гегеля, в сущности пародирующая библейскую историю. По Гегелю, прошлое человечества отнюдь не случайно, а имеет глубокий смысл: оно представляет собой последовательность экспериментов Абсолютного духа, в котором нетрудно узнать того же бога. Но этот бог, как обнаруживается, не всеведущ и даже в некотором смысле не завершен, а нуждается в развитии, и для этого устраивает спектакли, выпуская на сцену, одно за другим, человеческие племена и наблюдая их приключения. Складывается впечатление, что этот развивающийся Абсолют есть попросту абстрагированное содержание истории, но это содержание многозначительно и величественно. Увенчанием этой божественной драмы оказывается прусская монархия, что совсем уже напоминает известное стихотворение Гейне:
Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!
Ich will mich zum deutshen Professor begeben.
Der weiß das Leben zusammenzusetzen,
Und er macht ein verständlich System daraus;
Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft er die Lücken des Weltenbaus.1
Более реалистичную философию истории построил Маркс. Его объяснение истории было тоже монистическим, то есть он пытался вывести все прошлое человечества из единственного принципа. Для Маркса история была развитием производительных сил, составляющих «базис» общественной жизни, тогда как все другие ее стороны считались всего лишь «надстройкой». Во всяком случае, в этой картине есть развитие, как и в доктрине его учителя Гегеля; но можно спросить, кто же развивает эти производительные силы? Вся жизнь человечества оказывается в картине Маркса лишь аккомпанементом к суверенному грохоту машин, очевидным образом заглушившему в его время все другие мотивы.
Поиски закономерности в истории всегда наталкивались на принципиальную трудность: история – единственное в своем роде явление. Научные закономерности относятся к регулярно повторяющимся явлениям, но человечество имеется в единственном числе. Можно искать повторения в исторических событиях, чем всегда занимались историки, но эти события напоминают друг друга лишь в самых общих чертах. Самое возникновение человека загадочно. Более того, загадочно и возникновение вселенной, которая тоже имеется в единственном числе. В существующей теории «большого взрыва», хорошо описывающей многие особенности известного нам мира, лежащие в основе жизни тяжелые элементы могли появиться лишь при крайне маловероятных соотношениях атомных постоянных.
Еще менее вероятным кажется возникновение жизни. Жизнь означает особый, более высокий уровень организации вещества. Даже простейшие формы известной нам жизни основаны на сложных структурах ДНК, образование которых, при нынешнем состоянии наших знаний, представляется удивительной случайностью. Еще удивительнее возникновение человека, с его культурной традицией, положившей начало новому, еще более высокому уровню организации живых систем. Если представить себе объективный внешний разум, оценивающий эти события, то явления жизни и человека представились бы этому разуму почти невозможными. Можно допустить, что они единственны во всей вселенной; во всяком случае, почти достоверно, что в Солнечной системе никакой другой жизни нет.
Нашими предками были насекомоядные животные размером с крысу. С какими-то из них случилась мутация, и от них произошли обезьяны. С другими ничего не случилось, и потомки их до сих пор живут в джунглях Мадагаскара. Тупайя до иллюзии похожа на крысу, но она не грызун. И у нее странные глаза: если бы мы не знали, что она почти наш предок, эти глаза невозможно было бы понять. Обезьяны, при всем своем внешнем сходстве с человеком, не так уж выделяются из царства животных: между животными и человеком – качественный разрыв, не поддающийся измерению в рамках биологии. Между тем, биологи еще недавно всерьез рассуждали о «разуме животных», сравнивая умственные способности обезьян и человека. Непрерывного перехода здесь нет, потому что только у человека есть понятийное мышление, выражаемое символическим – словесным – языком. Поистине, «вначале было слово».
У предков человека – гоминид – образовался «избыточный», излишний для сохранения вида мозг, главным применением которого была внутривидовая борьба. Такая борьба, убийственная для всех видов животных, наблюдается лишь в редких патологических случаях. И вот у гоминид выпал инстинкт, останавливающий внутривидовую агрессию и предотвращающий убийство собратьев по виду. Эта редчайшая случайность вызвала войны между группами, приводившие к истреблению побежденных. В соответствии с общим биологическим законом, все гоминиды, за исключением одного вида, вымерли.
Этот единственный вид избежал судьбы всех остальных благодаря дальнейшей – самой удивительной – мутации мозга. Эта мутация (возможно, вместе с рядом последовательных мутаций, происшедших вслед за ней) сделала возможным развитие понятийного мышления, то есть создала человека, с его способностью к накоплению и передаче потомству приобретенных знаний. Можно предположить, что возникший таким образом вид приобрел свойства, позволившие ему выжить, несмотря на истребительные внутривидовые войны. Мы называем этот вид homo sapiens – человек разумный.
Мутация мозга, создавшая человека, не оставила следа в костных остатках, но отразилась на изготовлении орудий. Скелеты, в точности похожие на скелет современного человека, датируются 100 – 120 тысячами лет, и предполагается, что в Восточной Африке такие же существа появились примерно 200 тысяч лет назад. Но около 50 тысяч лет назад резко меняется качество орудий, изготовляемых этими гоминидами: их изделия начинают быстро совершенствоваться. Вероятно, тогда и произошла решающая мутация, о которой идет речь. Первых людей называют кроманьонцами, по местности во Франции, где нашли их стоянки.
Люди не удивляются человеку, потому что повсюду встречают себе подобных. Удивление вызывают более редкие вещи. Путешественники и мореплаватели повсюду находили людей – белых, черных, желтых или краснокожих, но всегда людей. Можно понять, почему писатели-фантасты населили все планеты и звездные системы существами, скопированными с людей. Но человек – величайшая случайность и величайшая редкость во вселенной.
Разумеется, все явления истории человечества были не только случайны, но в то же время закономерны – в том смысле, что они подчинялись законам физики, которые мы в значительной степени знаем, законам кибернетики сложных систем, которые мы лишь начинаем понимать, законам биологии, о которых мы имеем лишь первое представление. Эти закономерности принадлежат последовательным, возвышающимся один над другим уровням организации, над которыми, несомненно, лежат законы культурной организации. И все эти закономерности налагаются на описанную выше картину случайных событий, почти невероятных мутаций, в которые мы вынуждены верить лишь потому, что существуем.
Случайность господствует и в истории «разумного человека». Ход истории напоминает плавания Колумба и Магеллана, где тоже соблюдались все закономерности низших уровней организации – все вещества вели себя по законам физики, Земля была устроена по законам ее географии, экипаж подчинялся законам человеческой физиологии, и так далее, но все предприятие в целом было прыжком в неизвестность.
Невозможно отрицать, что мы достигли в нашем плавании удивительных результатов. Удивление легко переходит в почтительность к истории, в которой она не нуждается, или в благодарность истории, которая этого не заслуживает, поскольку она закономерна, и тем более – поскольку она случайна. От таких эмоций нетрудно избавиться, но почти невозможно отделаться от моральной оценки истории. В этом мы слишком человечны, и мы склонны оценивать историю наподобие того, как мы оцениваем отдельную человеческую жизнь. Иначе говоря, мы почти неизбежно морализируем по поводу истории. Вероятно, это занятие полезно в том отношении, что мы можем чему-то научиться на исторических примерах. Но единственный критерий для такой моральной оценки, какой у нас может быть – это наша собственная современная мораль. И если никакая религия или теоретическая догма не сковывает нас, мы неизбежно приходим к заключению, что эта история чудовищна.
Если опять сравнить историю с плаванием в неведомые страны, то бросается в глаза различие: на кораблях мореплавателей был все же капитан, руководствовавшийся какой-то теорией и сознательно принимавший решения. Вначале не было и этого, а просто лодку уносило в море. В этом сравнении есть некоторый урок. Конечно, невольные моряки на такой лодке создавали себе мифы, осмысливая происшедшее и пытаясь угадать будущее. Иначе говоря, у них еще не было теорий, но была религия.
Все религии несут на себе несмываемую печать чудовищной истории человечества. Не все верующие отдают себе в этом отчет. Не все верующие знают, что таинство причастия происходит от людоедского ритуала – торжественного съедения принесенного в жертву человека. Священник, называющий непонятную ему науку «вавилонской блудницей», скорее всего не знает, что это выражение происходит от храмовой проституции. И апостол Павел, убеждающий раба повиноваться своему господину, свидетельствует лишь о психической установке христианской церкви, видевшей в людях «рабов божьих» и не мыслившей иного отношения к своему богу.
Вера несла в себе рабство, и рабство сковывало мышление. До восемнадцатого века история была случайным процессом, поскольку действие множества естественных причин приводило, как это часто бывает в сложных системах, к непредсказуемым последствиям. К таким причинам надо отнести и решения людей, вызванные случайными обстоятельствами и преследовавшие частные цели. Людям чуждо было представление, что ход истории может зависеть от сознательной воли людей. Напротив, точно так же, как в сложных путях планет видели непостижимую волю божью, пути истории приписывались Провидению; возникшая в Новое время претензия угадать и изменить их осуждалась как пагубное своеволие.
Но в восемнадцатом веке, вместе с промышленной революцией, началась реакция против слепого повиновения истории. Совпадение обоих явлений не случайно. Возмужавший человеческий разум, положивший начало современной науке и промышленности, в то же время требовал осмысления общественной жизни. Началом такого осмысления была «религия прогресса», которая подчеркивала творческую роль человеческого разума и требовала сознательного формирования общества усилиями людей. Энтузиастами этой прогрессивной философии были французские просветители восемнадцатого века.
Неверующие могут судить об истории лишь с точки зрения современной им логики и морали – логики, происходящей из человеческой практики, и морали, уже освободившейся от обязательных фикций религии. С этих позиций ее и восприняли философы Просвещения. Они увидели, что человечество едва начинает выходить из тысячелетней тьмы, и осмелились считать себя первыми свободными людьми. В этом они были правы, даже если преувеличили достижения разума, какими справедливо гордился их век.
Для нас, точно так же, история человечества – это история случайного поведения людей, движимых страхом и корыстью, оправдывавших свои преступления суевериями и основывавших свои притязания на давности этих преступлений. Но в то же время – это история упорной борьбы человека за выживание, история удивительных изобретений и открытий, великолепных творений искусства! Поразительно, как мало историки занимались этой светлой стороной культуры, уделяя внимание всем подробностям войн и разрушений.
Трудно сказать, какова была бы судьба цивилизации, если бы не произошла – на пороге Нового Времени – мутация общественного сознания. Все высокие культуры прошлого, кроме европейской, перестали развиваться и увяли. Я не настаиваю, что любая застойная культура ведет к катастрофе. Это трудно доказать, поскольку ни египетской культуре, ни китайской не дали умереть естественной смертью: для чистого эксперимента нужна была бы строго изолированная культура, наподобие тех, какие разводят в пробирках. Но европейская культура, по счастливой случайности, не погибла, отбилась от гуннов, сарацин и норманнов, и в ней развилась – впервые в истории – идея прогресса, сознательного развития общества по воле человека. В наше время эта воля ослабела, и наша культура несомненно впадает в застой. Мы должны спросить себя, чего мы хотим, и что нам говорит наше знание.
2. Инстинктивные и культурные установки человека
Напомним биологические предпосылки этой книги. Наша главная тема – социальный инстинкт человека. Человек, по древнему изречению, – общественное животное. Это значит, что человек генетически запрограммирован для жизни в обществе своих собратьев по виду, в непрерывном взаимодействии с людьми, и не способен жить без отношений с людьми, предусмотренных этой программой. Общественная жизнь высших животных представляет собой динамическое равновесие социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии. Первоначальным обществом человека была группа из нескольких десятков особей, как и у наших предков-приматов. Размеры этой группы и отношения между ее членами определялись социальным инстинктом, возникшим путем группового отбора. Социальный инстинкт вначале не распространялся на другие группы: отношения между группами определялись инстинктом внутривидовой агрессии. У всех высших животных этот инстинкт корректируется другим инстинктом, запрещающим убивать собратьев по виду: столкновения оканчиваются изгнанием слабейшего. Но у человека этот корректирующий инстинкт выпал – вероятно, в процессе быстрого мутирования. Вследствие этого столкновения между группами приняли кровавый характер и завершались истреблением побежденных групп. Это необычное в эволюции явление, несомненно, поставило наш вид на грань вымирания, подобно тому, как вымерли все другие гоминиды; но при этом истребление целых групп ускорило групповой отбор, наподобие выбраковки при искусственном отборе, что могло быть причиной необычайно быстрой эволюции человека.
Дальнейшая мутация, по-видимому, сделала возможной глобализацию социального инстинкта, распространив его первоначальное действие на бóльшие коллективы. Вероятно, такая мутация сняла генетическое ограничение социального инстинкта первоначальными группами. После этого узнавание «своих» и, тем самым, запрет их убийства стали предметом культурной наследственности. Вследствие этого стало возможным образование племен, а затем наций, стимулируемое преимуществом численного превосходства. Но при этом социальный инстинкт, первоначально сконструированный эволюцией для небольшой группы, в более широком сообществе действовал слабее, и способность человека к общению с незнакомыми людьми была чрезмерно напряжена. Эта способность сосредоточилась на членах рода.
С накоплением имущества в родовом обществе возникла частная собственность на землю и орудия производства. Собственность сыграла важную роль в освобождении индивида от племенного строя. Заставляя человека самостоятельно принимать решения, она содействовала также реализации его творческих способностей, которые связаны, как можно предполагать, с ориентировочным инстинктом. Но укрепление собственности и возникновение рабства – собственности на человека – породило классовое общество и сословные привилегии, воспринимавшиеся как социальная несправедливость, откуда возникла классовая борьба. Классовая борьба, в основе которой лежит социальный инстинкт и связанный с ним инстинкт устранения асоциальных паразитов, стала неизменным содержанием истории, усиливаясь в периоды нужды и военных бедствий. Господствующие классы всегда пытались направить классовую ненависть на «внешнего врага», отвлекая внимание от своих привилегий. История была последовательностью внешних и внутренних конфликтов – войн и восстаний.
Каждое расширение или сужение социального инстинкта – образование племен и государств, возникновение родового общества – сопровождалось революционным изменением способов производства, изменявшим весь образ жизни общества. Но ни одно общественное устройство не удовлетворяло социальный инстинкт человека, и это недовольство вызывало все общественные движения, известные нам из истории. Действие инстинктов никогда не прекращается, но социальный инстинкт и агрессивность могут быть незаметны, пока они находятся в относительном равновесии. Они проявляются с полной силой во время социальных катастроф.
В сословном обществе подавляющее большинство населения неизменно жило в бедности, часто переходившей в нищету. Но в двадцатом веке развитие науки и техники привело к устранению нищеты в развитых странах, к возникновению глобальной экономики, сближающей народы и, как можно предполагать, исключающей возникновение войн. В наше время, под действием социального инстинкта, распространившегося на все человечество, а также инстинкта самосохранения, обостренного опытом двух мировых войн и угрозой атомной войны, складывается единая мировая культура. Ценности этой культуры, получившие признание в Хартии Объединенных Наций, выработались в европейской культуре и включили в себя также идеи других высоких культур. Главная из них – признание за всеми людьми неотъемлемых прав человека, то есть прав, прежде бывших привилегией отдельных классовых групп и племен.
В наше время запрет убивать человека и отвращение к бесчеловечному обращению с женщинами и детьми приобрели на нашей планете общее значение, какого они никогда не имели в истории. Попытки религиозного фанатизма и племенной исключительности повернуть вспять это достижение нашего вида не имеют никаких шансов на успех.
Такой исторический поворот можно было бы только приветствовать, но, к несчастью, все развитие человеческого общества приняло односторонний характер и теряет свои цели. Отпали многие культурные мотивы, и единственным регулятором человеческого поведения стали деньги. Внимание человека сосредоточилось на том, что можно купить за деньги – на личном потреблении, и это глубоко фрустрирует его биологическую природу.
Денежная установка крайне ограничила интересы и деятельность человека. Его широкие способности больше не нужны. Социальный инстинкт и агрессивность не находят себе выхода, ориентировочный инстинкт работает лишь на уровне узнавания улиц и чтения вывесок, половой инстинкт, отделенный от естественных способов своего проявления, низводит человека на уровень скота. Наша культура, по видимости преуспевающая, перестает быть высокой культурой.
Человеческое общество – живая система, во многом подобная другим видам животных. Разумеется, с точки зрения биологии единственным критерием преуспеяния вида является его численность, определяемая коэффициентом размножения. Но человек – не просто живое существо, а культурное существо. Поэтому человеческое общество – также культурная система, с единственной во вселенной культурной традицией и духовной жизнью.
Цели культуры тесно связаны с инстинктами и выражают, в специфической для человека форме, его инстинктивные установки. Но культурная жизнь человека не сводится к его инстинктам: она имеет собственные закономерности и составляет, в смысле Лоренца, более высокий уровень организации. Попытки объяснить явления культуры, исходя из одних биологических данных, представляют собой столь же невозможный «редукционизм», как попытки объяснить явления жизни, исходя из одних законов физики. Точно так же, как живые организмы подчиняются законам физики, явления культуры подчиняются законам биологии, но не могут быть поняты без учета их специфической организации. Иначе говоря, будущая социология никогда не станет простой отраслью биологии. Некоторые черты этой будущей науки, однако, подсказываются аналогией между видом животных и культурой.
Культурная жизнь человека создает собственные формы «аппетентного поведения»2, аналогичные инстинктивному поведению животных. Явления воинственности, ищущей себе врага, поиски «козла отпущения» при неудаче, потребность в повиновении авторитету – все эти и многие другие черты человеческих племен сохранились до наших дней и часто омрачают нашу жизнь. В прошлом такие формы поведения, спонтанно возникавшие в некотором сообществе, нередко задавали цели коллективного поведения. В других случаях цели культуры могли быть более рациональны. Самосохранение племени, предотвращение реальных опасностей было первой из них, и в основе этой цели очевидным образом лежал инстинкт. Точно так же, племена первых земледельцев ставили себе целью освоение речных долин – Тигра и Евфрата, Нила, Инда или Хуанхэ – и решали для этого сложные организационные и технические задачи. В таких случаях, опять-таки, очевидна инстинктивная мотивировка этих действий. Труднее понять такие цели высокой культуры, как влечение к красоте, так дорого стоившее гражданам Афин и Флоренции.
На ранних этапах высокая культура может быть невыгодна для ее носителей. Развитие культуры требует значительной доли общественного труда, и эта доля непрерывно возрастает. Племена низкой культуры, специализированные на некотором военном преимуществе, – например, кочевники – могут временно одерживать верх над более культурными обществами. Но творческое превосходство высокой культуры, в конечном счете, доставляет ей средства противостоять всем вторжениям варваров. Более того, единая мировая культура сделает невозможным сохранение резерватов этого варварства, от которых мы не можем больше ожидать никаких благ. Высокая культура несет в самой себе средства своего спасения. Ее широкое развитие сообщает ей гибкость, доставляющую ей преимущество над любой узко специализированной культурой.
Качественное развитие этой культуры, в частности, ее эстетическое развитие, составляет ее важнейшую цель. Необходимым элементом культуры является ее искусство. Искусство рождается как функция религиозного культа, но на некоторой стадии своего развития освобождается от этой зависимости и удовлетворяет психические потребности человека, прежде связанные с религией. Культура, потерявшая свое искусство, уже не может быть высокой культурой. Несомненная инстинктивная потребность человека – почти не изученная, но с самого начала свойственная нашему виду – это «эстетическая» потребность, то есть потребность в красоте.
Другая культурная цель человека выражает его «космологическую» потребность, потребность в связной картине мира; это специфическое свойство человека, возникшее из его понятийного мышления. Человеческий мозг, уже в доисторические времена вышедший за пределы своей первоначальной функции сохранения вида, стал «жить собственной жизнью»: психика человека, вначале побуждаемая ориентировочным инстинктом, приобрела собственные аппетенции, не вытекающие из материальных потребностей человека. Одна из них – это потребность в познании, часто не связанная ни с какими нуждами тела. Речь идет здесь не только о научном познании, отвечающем на точно поставленные вопросы. Так называемые «вечные вопросы» философии – о начале мира, о природе человека, о смысле жизни – выражают эти стремления человеческого сознания к созданию определенной космологии, которые долго удовлетворяла религия, и которым трудно придать логически определенную форму. Эти стремления можно выразить одним утверждением: человек нуждается в цельной и связной картине мира. В наше время эта потребность гораздо лучше удовлетворяется на уровне всего мироздания, чем на материале более близкой человеку действительности: у нас есть изощренная теория происхождения вселенной, и мы много знаем о строении атома, но совсем плохо знаем, как устроено человеческое общество и как оно относится к нашему личному существованию. Этот вопрос для нас, людей, важнее всех других проблем философии и науки.
3. Картина мира
Нужную человеку связную картину мира в былые времена давала религия, и образ мира, складывавшийся у человека, определял его самопонимание. Так обстояло дело в Средние века, когда христианская картина мира была столь убедительна и самоочевидна для европейцев, что среди них не было неверующих – в течение полутора тысяч лет. Лишь в семнадцатом веке эта картина мира перестала внушать доверие, потому что – впервые в истории – религиозная концепция мироздания столкнулась с другой, научной.
Резкость этого столкновения трудно преувеличить; но не следует упускать из виду, что религия тоже по-своему объясняла мир, используя модель, доступную примитивному человеку – самого человека. Его свойства и побуждения приписывались сверхъестественным существам, сначала антропоморфным, а потом более абстрактным. Этот маскарад «спиритуализма» был окончательно разоблачен лишь Фейербахом в девятнадцатом веке, когда религиозное объяснение мира стало не просто ненужным, а смешным. В древности и в средневековье религия была, по известному выражению двадцатого века, «примитивной наукой»; такое обозначение могло появиться лишь тогда, когда когнитивная функция религии стала предметом беспристрастного анализа.
В восемнадцатом веке новая картина мира окончательно вытеснила старую – во всяком случае, в уме образованных людей Европы. Вероятно, тогда же возникло и немецкое слово Weltanschauung, калькой которого является «мировоззрение».3 Мировоззрение – то же самое, что «картина мира», о которой мы говорим; надобность в таком термине возникла лишь тогда, когда можно было представить себе разные картины мира. Но слово «мировоззрение» звучит наукообразно, и можно заподозрить, что мировоззрение бывает только у образованного меньшинства. В действительности у каждого человека есть некоторая картина мира, заимствованная из его культуры, картина, которая его удовлетворяет. Но не все люди заботятся о логической стройности этой картины.
Ньютонианство. Научное мировоззрение появилось в семнадцатом веке, под влиянием работ Ньютона. До Ньютона были уже астрономические наблюдения и открытия Коперника и Кеплера, а затем работы Галилея и его учеников, впервые сознательно применивших экспериментальный метод, то есть не ограничившихся наблюдениями, а задававших природе вопросы в специально созданных условиях. Эти работы относились к физике и астрономии, и достижения Ньютона, опиравшегося на своих предшественников, намного их превзошли. Ньютон описывал движения тел под действием заданных сил и предсказывал эти движения по начальным данным, то есть по их положению и скорости в начальный момент. Он создал метод такого предсказания – дифференциальное и интегральное исчисление, и открыл закон всемирного тяготения, позволивший ему применить свой математический метод к телам Солнечной системы. Как уже было сказано в главе 8, найденное Ньютоном объяснение движения планет разрешило вопрос, остававшийся с древности главной загадкой астрономии. По причинам, не имевшим отношения к механике Ньютона, это решение считалось почти превосходящим человеческие силы: вековое суеверие связывало человеческую жизнь с движением небесных светил, и эта воображаемая связь «микрокосма» с «макрокосмом» придавала открытиям Ньютона особую значительность. Людям того времени казалось, что Ньютон не только решил эту старую проблему, но и открыл главный закон мироздания, Закон природы с большой буквы.
В это уверовали и сами ученые, создатели новой науки. Конечно, они не принимали всерьез нелепости астрологов, но метод Ньютона казался им универсальным. Они полагали, что все тела состоят из малых частиц, подобных «материальным точкам» ньютоновой механики и притягивающихся по закону тяготения. Попарное притяжение этих частиц друг к другу, как они думали, определяет силы взаимодействия любых тел, и предполагалось, что других сил в природе нет. Следовательно, – полагали ученые, – рассчитав движения всех точек по методу Ньютона, можно предсказать все будущие движения любых тел. Они знали, что этот расчет может оказаться трудной математической задачей, но верили, что с ней можно справиться, как Ньютон справился с задачей движения планет. Более того, энтузиасты новой науки ожидали, что вскоре явится новый Ньютон, который разрешит и все проблемы человека и общества. Эта эйфория веры в науку, продолжавшаяся два столетия, свидетельствует о том, насколько нужна была людям связная картина мира: им казалось, что ньютонианство, как называли новую науку, доставило им достоверную картину мира, вместо религиозного мировоззрения, в которое уже нельзя было верить.
Наука и религия. Ньютонианское мировоззрение составило целую эпоху в развитии человечества. На нем была построена идеология прогресса, часто именуемая «религией прогресса». Это название, соединяющее два несовместимых явления, выражает все же некоторую аналогию между ними. С одной стороны, ньютонианцы уверовали в свое учение с энтузиазмом неофитов, очевидным образом перенося в него наследие религиозного абсолютизма: убежденность в универсальности своих принципов, в достаточности предлагаемых объяснений, и даже в моральном превосходстве своего учения над всяким другим. Но, с другой стороны, ньютонианцам недоступны были важные психологические преимущества старой доктрины: утешение молитвой, надежда на заступничество святых и вера в чудеса, прежде всего в величайшее из чудес – бессмертие души.
Могло бы показаться, что новое мировоззрение не имеет шансов заменить прежнее: оно освобождало человека от бремени греха и от страха адских мучений и обещало ему – в необозримом будущем – счастливую жизнь на Земле, но не сулило ему бессмертия и вечного блаженства. По сравнению с христианской мифологией доктрина ньютонианцев казалась убогой: отказ от загробной жизни уже сам по себе должен был сделать ее ненавистной всем людям, не взысканным судьбой. Но научное мировоззрение, в его ньютоновской форме, одержало победу над христианством: в самом деле, мы живем среди людей, не принимающих религию всерьез. Тем самым, произошло радикальное изменение в общепринятой картине мира, подлинная мутация человеческой культуры, но историки и философы вряд ли уделили этому факту достаточное внимание.
Заметим прежде всего, что иудео-христианская религия, вместе с развившимся из нее исламом, не была единственной религией и, конечно, не была самой древней. Ей предшествовали, или наряду с ней существовали другие, во многом непохожие на нее религии, так же сильно привлекавшие миллионы верующих и отчасти сохранившиеся до наших дней. Даже еврейская религия в ее первоначальной форме не знала загробного воздаяния и вряд ли вообще имела разработанное представление о потустороннем мире. Еврейский бог обещал своим праведникам награды в земной жизни – долголетие, многочисленное потомство и богатство в понятном для них смысле, то есть большие стада. Точно так же, мало занимались загробной жизнью древние греки. У них было представление о Гадесе, куда направляются души умерших, но, как видно из «Одиссеи», их изображали в виде жалких теней; во всяком случае, греки не боялись ада и заботились лишь о земной жизни. Египтяне, напротив, думали о загробной жизни едва ли не больше, чем о своем земном существовании: по-видимому, от них это суеверие и перешло к христианам. Китайцы имели когда-то развитую иерархию небожителей, но сохранили только мало обременительный культ предков, и вся их религия свелась к этическому учению Конфуция, решительно отказавшегося определить их обязанности перед небом.
Религии были у всех народов; они доставляли людям необходимую им картину мира, но картины эти могли быть весьма разнообразны, как и другие черты культуры, и некоторые народы уже в древности потеряли интерес к загробной жизни. Разнообразие религий доказывает пластичность человеческой психики, потребности которой могут удовлетворяться разными способами – в частности, разными космологиями. Загадка смерти всегда тревожила людей, но по мере развития человеческого мышления она перестала быть жгучим вопросом жизни, потому что никто не возвращался с того света, а вера в чудеса постепенно угасала. Стала возможной картина мира без сверхъестественных сил, и притом единая для всех людей – вначале доступная лишь образованным европейцам, но потом оказавшая решающее воздействие на все народы Земли. «Религия прогресса» не обещала чудес, но обращалась к человеческому разуму и демонстрировала реальные возможности этого разума – открытия и изобретения, недаром прозванные «чудесами науки и техники». Поскольку новая идеология была очень непохожа на старую, ей не придавали столь серьезного значения, как «настоящей» религии; а между тем она заменила религию в ее важнейшей функции: люди обрели картину мира, которой можно было верить. «Человек бессмертный» стал «человеком смертным».
Тем самым жрецы – хранители племенного мировоззрения – потеряли свою «объяснительную» функцию. Но у них была и другая функция: они были духовными вождями своего племени. Духовное руководство состояло в хранении и передаче традиционных ценностей культуры, в защите их от искажения и от смешения с ценностями других культур, что было особенно важно в периоды конфликтов. Ученые, доставившие материал для «религии прогресса», не берут на себя духовного руководства человеческим обществом, да и не способны к такой роли. Непригодны к ней и популяризаторы науки, не имеющие, как правило, серьезных знаний и литературных способностей; эта профессия не пользуется уважением. Роль посредников берут на себя журналисты, а в последнее время деятели телевидения. Такое положение привело к возникновению варварских псевдонаучных верований, аналогичных религиозным сектам. Отсюда можно понять роль всевозможных шарлатанов, в наше время непременно ссылающихся на «науку», на таинственные «биополя», и описывающих при этом уже не «чудеса науки», а чудеса в старом смысле, нарушающие законы природы. В отличие от религии, наука не имеет ни теологии для выработки обязательной доктрины, ни приходских священников для попечения о душах верующих. И все же религии не вернутся: предлагаемый ими способ ви'дения мира не согласен с созревшим человеческим разумом, и человечество ищет новый синтез – новую картину мира. Ее может дать нам только наука, возможности которой лишь начали раскрываться, во всем разнообразии ее творений.
Но прошлые суеверия все еще напоминают о себе. Время от времени против науки выдвигаются обвинения, находящие отклик в общественном мнении. Ученые не ограждены от них никакой инквизицией и пытаются отвечать на все возражения, к чему они не всегда готовы. Первая волна антинаучных нападок поднялась в конце девятнадцатого века, в эпоху так называемого fin de siècle4, и то же повторяется в наши дни. Сто лет назад говорили, что «наука не исполнила своих обещаний», – как будто ученые взяли на себя какие-то обязательства перед обществом, кроме обязанности добросовестно изучать природу. Оказалось, что наука не всесильна и не способна творить «настоящие» чудеса: ученые не только не могли избавить людей от страха смерти, но даже не могли справиться с болезнями, и тем более с эпидемическими болезнями общественного мнения. По общему закону социальной психологии, преувеличенные надежды, возложенные на науку «религией прогресса», привели к чрезмерному разочарованию. Консервативные круги стали обличать «несостоятельность» науки, ее «ложные притязания», прямо рекомендуя вернуться к спасительным истинам откровенной религии. Это происходило как раз в период наибольших триумфов точного естествознания, когда гуманитарные ученые, историки, психологи и даже философы усердно подражали методам количественного описания явлений, утвердившимся в физике и астрономии, стараясь придать своим «словесным» предметам наукообразный вид.
Научное мировоззрение особенно сильно повлияло на экономистов: возникла иллюзия, что из имеющихся данных можно уже объяснить всю материальную жизнь общества и, более того, вывести отсюда объяснение всей истории. Напомним, что именно этого ожидали от ученых восторженные ньютонианцы восемнадцатого века. Анализ доктрины Маркса, проведенный в главе 11, показывает, каким образом этот талантливый исследователь был введен в заблуждение аналогией своей «теории прибавочной стоимости» с энергетическим подходом, столь плодотворным в физике и во всех естественных науках. Историческое значение этой научной ошибки вряд ли нуждается в комментариях, но оно ярко иллюстрирует общественное влияние науки в наше время. Нас не удивляет, что в былые времена богословские споры об отношениях лиц святой троицы, или о присутствии плоти и крови христовой в просфорах вызывали яростные эмоции, расколы и войны между народами. Но вряд ли достаточно оценена роль теории Маркса, доставившей идейную мотивировку коммунистических революций и гражданских войн, или роль ошибочных выводов из теории Дарвина, вдохновивших фашистскую реакцию против марксизма. Теории ученых стали в наше время столь же важным историческим фактором, как доктрины богословов в былые времена.
Так называемый исторический материализм был отнюдь не единственным продуктом наукообразных построений, стремившихся объяснить историю. Попытки этого рода получили название «историцизма». Но предсказания будущего плохо удавались историкам, претендовавшим на научную объективность – не лучше, чем историкам прошлого. Наука причастна к нынешнему положению человечества. Она содействовала, особенно в последние десятилетия, бессмысленному расширению потребления и созданию новых видов оружия. Но только от науки мы можем ожидать анализа общественных явлений, угрожающих разрушить нашу культуру. Это приводит к принципиальному вопросу – возможно ли научное исследование человеческого общества?
Границы ньютонианства. Ответ на этот вопрос зависит от того, что называется научным исследованием. В течение двухсот лет господствовало представление о науке, возникшее из механики Ньютона. Метод Ньютона сводился к определению движения тел по их начальному состоянию, для чего надо было решить математическую задачу, получившую название «задачи Коши»5. В сущности, последователи Ньютона считали задачу Коши единственным подходом к предсказанию явлений природы. Дифференциальные уравнения, входившие в эту задачу, уже для взаимодействия трех тел приводили к неразрешимым вопросам, но это не смущало ученых, полагавших, что математические трудности в принципе могут быть преодолены – если уравнения составлены правильно, в чем у них не было сомнений.
Сомнения возникли при попытках применить этот подход к сложным системам, таким, как живой организм или человеческое общество. Нильс Бор рассмотрел эту трудность с позиций квантовой механики. В этой новой механике тоже были дифференциальные уравнения, применимость которых ко всем явлениям природы не вызывала сомнений. Бор попытался оценить, чтó эти уравнения могут сказать о поведении животного. Он отвлекся от разрешимости уравнений (которые уже представляли бы непреодолимую трудность) и занялся начальными условиями движения. Чтобы предсказать движение животного хотя бы на несколько минут, надо было бы задать начальные состояния всех его атомов. Эти данные можно получить лишь посредством облучения атомов частицами, например, электронами. Бор оценил, какую энергию должны иметь такие электроны, чтобы получить достаточно точную информацию об атомах. Оказалось, что энергия этих электронов убьет животное. Задача Коши в таком случае теряет смысл, поскольку никакого движения животного не будет.
Несколькими годами позже Карл Поппер, в книге «Нищета историцизма», рассмотрел вопрос, можно ли предсказывать исторические события в том же смысле, как Ньютон предсказывал движения планет. Поппер отвлекся при этом от трудности получения начальных данных, но обратил внимание на невозможность точного описания условий задачи, то есть составления чего-то вроде дифференциальных уравнений. Для этого надо было бы знать условия исторического процесса на какое-то время вперед. Но в них входит такой непредсказуемый фактор, как новшества, зависящие от творчества одного человека и, в частности, научные открытия и изобретения, которые могут оказать решающее влияние на историю. Книга Поппера вышла незадолго до появления на политическом горизонте атомного оружия!
Высокая репутация «точного естествознания» привела к недооценке специфических методов познания, приспособленных к уровню организации природных явлений, то есть к неоправданному перенесению «задачи Коши» на все области знания. Конец эпохи ньютонианства вовсе не означает отказа от применения методов Ньютона там, где они уместны. Он означает расширение методов научного исследования, опирающихся также на опыт биологии, и распространение их на человеческое общество, с учетом более высокого уровня организации, составляющей культурное развитие. Вот что пишет об этом Лоренц:6
«Естествоиспытатель, конечно, вправе избрать себе предмет исследования, принадлежащий любому слою реального бытия, любому, сколь угодно высокому уровню интеграции жизненных явлений. Наука о человеческом духе, и прежде всего теория познания, также начинает превращаться в биологическую естественную науку. Так называемая точность естествознания не имеет ничего общего со сложностью и с уровнем интеграции ее предмета, а зависит исключительно от самокритичности исследователя и чистоты применяемых им методов. Употребительное обозначение физики и химии как «точных естественных наук» есть клевета на все другие науки. Известные изречения вроде того, что любое исследование природы является наукой в той мере, в какой в ней используется математика7, или что наука состоит в том, чтобы «измерять то, что измеримо, и делать измеримым то, что не измеримо», представляют собой и в смысле теории познания, и с человеческой точки зрения величайшую нелепость, когда-либо срывавшуюся с языка у людей, которым следовало бы лучше понимать, что они говорят».
Кибернетика современного общества. Конечно, научное исследование человеческого общества находится еще в зачаточной стадии, но уже сейчас можно привести некоторые вопросы, неизбежно возникающие на первых шагах такого исследования. Естественно начать с простейшего аспекта общественной жизни, рассматривая социальный механизм как машину, подчиняющуюся общим закономерностям сложных систем. Такой подход можно назвать кибернетическим. Кибернетика, возникшая в середине двадцатого века, открыла новые пути изучения сложных систем любой природы. Кибернетика использует методы современной математики, не ограничиваясь традиционной схемой Ньютона. Применение методов кибернетики к биологии привело уже к пониманию важных механизмов жизни, и в особенности – cистемы обратных связей, лежащих в основе интеграции функций организма. Несомненно, на этом пути можно понять лишь простейшие общественные явления, и я вовсе не пытаюсь свести задачу исследования общества к кибернетике. Но в системах высшего уровня должны соблюдаться все законы естествознания, присущие более низким уровням организации. Никто не сомневается, что человеческое общество подчиняется, например, закону сохранения энергии, и экономисты подсчитывают, хватит ли ему энергетических ресурсов. Точно так же можно рассмотреть общество как сложную машину и поставить вопрос, способна ли она, в ее нынешнем виде, выполнять свои функции. Подчеркнем: это вовсе не значит, что общество представляет собой машину; машина – всего лишь модель общества, полезная для определенной цели.
Таким образом, мы вовсе не впадаем в заблуждение редукционизма, видевшего в человеке и человеческом обществе всего лишь машину. Но мы отдаем себе отчет в том, что у нас нет еще специфических методов исследования, приспособленных к его особой организации. В этих условиях использование моделей – первый шаг к пониманию системы. Мы уже не раз прибегали к биологической модели, уподобляющей общество виду животных. Применим теперь более простую кибернетическую модель. Что же можно сказать, с кибернетической точки зрения, о машине современного общества? Здесь напрашиваются самые очевидные вопросы.
Машина должна иметь некоторое назначение, чтобы можно было понять, хорошо ли она работает. Поскольку – наглядно выражаясь – все мы сидим в этой машине, нам бы следовало знать, куда она едет.
Против этого вопроса сразу можно возразить, что он относится не к современному обществу, а к любому обществу вообще, и что человеческие общества не должны иметь никаких целей. Очень распространено представление, что «жизнь есть самоцель», то есть что живая система не имеет никаких других целей, кроме собственного существования. Вероятно, это справедливо для жизни животных, и человеческие сообщества тоже имели, прежде всех других целей, трудную цель выживания. Но внешние опасности, требовавшие определенной деятельности, заставляли их изменяться. Необходимые для выживания изменения уже составляют сознательные цели. Племена и государства редко находились в столь безопасных условиях, чтобы вовсе не меняться, или считать, что изменения им не нужны. В таком особом случае, как древний Египет, защищенный от внешних врагов природными условиями и выработавший устойчивую систему земледелия, общество в самом деле могло долго оставаться неизменным и видеть в такой неизменности свою единственную цель. Представление о совершенном обществе, которому ничто уже не грозит, возникло давно, и такие общества называются утопиями. Современное общество, во всяком случае – не утопия. Оно, правда, не имеет внешних врагов (которыми могли бы быть только другие разумные существа); но проблемы внешней среды угрожают этому обществу гибелью, и его до сих пор раздирают такие внутренние противоречия, что оно не может не изменяться. Впрочем, мы далеки от идеала египетской неподвижности, как ни одно общество в истории. Напротив, бесконтрольное, стихийное развитие техники, стимулируемое научными разработками, уподобляет машину современного общества бешено мчащемуся автомобилю – без водителя и без цели. Можно сказать, что современная культура почти не задумывается о собственном сохранении. Сохранение этой культуры – наша ближайшая цель. Она тесно связана с более отдаленными целями, с общим направлением движения нашей культуры.
Мы рассмотрим теперь, никоим образом не претендуя на оригинальность, простейшие кибернетические представления об эволюции культур, а затем соображения о самой очевидной и, угрожающей нашей культуре.
Квазистатическая модель эволюции культуры. В этой книге, согласно идее Лоренца, моделью развивающейся культуры служит эволюция вида животных. Между тем, для Дарвина важным образцом послужила эволюция горных пород, исследованная Лайелем. Эти три вида эволюции относятся к разным уровням организации вещества: в случае геологии эволюционирует некоторая масса неорганических соединений, в биологическом – коллектив животных одного вида, в социальном – коллектив людей одной культуры. Но можно заметить во всех трех случаях сходные черты, свойственные, по-видимому, всем эволюционным процессам. При таком подходе система не делится на «индивидов», а рассматривается как «сплошная масса». Это столь же правомерно, как аналогичный подход в классической механике сплошных сред, рассматривающей такую среду отвлекаясь от составляющих ее молекул, или в космологии, рассматривающей вещество вселенной как «звездную жидкость».
Во всех случаях система находится под действием сил – внешних и внутренних. Одна из внешних сил (по отношению к рассматриваемой системе) подавляюще велика и играет основную роль: в геологии это сила тяжести, в биологии и социологии – общие условия среды, используемой живой системой. В системе действуют внутренние силы, зависящие от ее строения и от внешних условий. В геологической эволюции – это силы давления и химические взаимодействия, определяющие смещения и превращения веществ. В эволюции вида роль внутренних сил играют инстинкты, научное изучение которых началось лишь в двадцатом веке. Как уже было сказано в главе 3, для высших животных особенно важно напряжение между социальным инстинктом и инстинктом внутривидовой агрессии, но у всех животных действуют классические «большие» инстинкты: инстинкт самосохранения, инстинкт питания и половой инстинкт. Несомненно, этим не исчерпываются существующие инстинкты; например, существует мало изученный ориентировочный инстинкт, важный в поведении высших животных, и особенно человека. Вся жизнь животного проходит во взаимодействии стимулов, которое Лоренц назвал «великим парламентом инстинктов»: поведение индивида определяется результирующей всех инстинктивных побуждений в данный момент. Если вид рассматривается как «сплошная масса», подобная горной породе, то действие инстинктов, усредненное по всем индивидам, аналогично напряжению внутренних сил, зависящему от места и времени. Наконец, в случае эволюции культуры к силам инстинктов, проявляющимся в обусловленной этой культурой форме, прибавляются культурные побуждения.
Эти культурные побуждения, аналогичные инстинктивным аппетенциям, наряду с внешними условиями существования общества всегда были предметом внимания историков и философов. Напротив, инстинктивные побуждения людей, общие с другими высшими животными, мало принимались во внимание, разве что в общей форме, под именем «страстей». Психоаналитики, прежде всего Фрейд и Фромм, часто ссылались на инстинкты, но мало о них знали. В конце девятнадцатого века, когда формировалось мировоззрение Фрейда, изучение инстинктов едва начиналось; а Фромм даже в конце жизни не понимал значения инстинкта внутривидовой агрессии и начал некомпетентную полемику с Лоренцем. В нашей книге, напротив, инстинктивным мотивам человека уделяется главное внимание. В отличие от психоаналитиков, сосредоточивших свой интерес на половом инстинкте, и тем самым на проблемах индивида, мы занимаемся главным образом социальным инстинктом, определяющим, вместе с инстинктом внутривидовой агрессии, общественное поведение людей.
Заметим, что во всех процессах эволюции, разумеется, соблюдаются общие законы природы, формулируемые в физике. Но к интересующим нас явлениям невозможно применить количественные способы описания, принятые в математической физике. Речь идет о сложных системах, не допускающих такого описания: для предсказания их движений невозможно получить необходимые начальные данные, невозможно учесть все действующие силы, наконец, невозможно решить математические задачи невообразимой сложности, которые могли бы получиться этим путем. И все же, даже при нынешнем неразвитом состоянии наших знаний об обществе некоторые качественные особенности социальных явлений можно объяснить.
Процессы эволюции, о которых идет речь, протекают очень медленно. Земля кажется неподвижной, потому что изменение геологических формаций занимает много миллионов лет, и лишь внезапные катастрофы, вроде горных обвалов и вулканических извержений, наглядно свидетельствуют о динамике земной коры. Виды существуют миллионы лет – все известные нам дикие животные несравненно превосходят наш вид своей древностью – но даже homo sapiens насчитывает около двухсот тысяч лет. Виды медленно меняются; это можно заметить в случае долгоживущих видов с достаточным числом ископаемых остатков. В неблагоприятных условиях виды нередко вымирают, причем такие биологические катастрофы могут быть внезапными: таким образом вымерли динозавры, скорее всего вследствие космического воздействия на поверхность Земли. Но общая картина изменения видов напоминает медленные процессы геологии: недаром геологические периоды связываются с определенными формами жизни. Даже культуры, характерное время изменения которых составляет сотни или тысячи лет, кажутся неподвижными в своей сложившейся традиции: люди сохраняют из поколения в поколение одни и те же обычаи, говорят на том же языке, повинуются тем же властям. Революции и гражданские войны по отношению к продолжительности существования культур составляют столь же редкие явления, как геологические катастрофы или внезапное вымирание видов.
Медленные процессы эволюции, в обычном течении которых трудно заметить изменения, можно назвать «квазистатическими». Конечно, полная неизменность в природе не встречается, но с достаточным приближением можно считать некоторые структуры постоянными. Это вовсе не значит, что в таких системах не действуют внутренние силы. Например, геологическая система находится под действием огромной силы тяготения; ее неподвижность означает, по законам механики, что эта сила уравновешивается силой давления лежащих ниже слоев земной коры. Внутренние напряжения в породе очень велики, но незаметны, поскольку не вызывают движения.
Если не считать редких катастроф, эволюцию системы можно представить себе следующим образом. Поскольку равновесие сил, действующих на части системы, все время нарушается по случайным причинам, система испытывает непрерывные медленные изменения, компенсирующие изменение действующих сил. Эти изменения, происходящие внутри системы, обычно не поддаются наблюдению, но со временем могут стать значительными. Когда они достигают определенной величины, происходит катастрофа – разрушение системы или ее частей, резко меняющее конфигурацию системы и действующие в ней силы. Научное описание таких явлений стало возможно – в самых простых случаях – совсем недавно; примечательно, что необходимые для этого математические средства выходят за пределы математической физики Ньютона: это так называемая теория катастроф, где применяются методы дифференциальной топологии.
В центре внимания этой дисциплины находятся особые состояния системы – так называемые критические точки. Пока система не достигает такого состояния, она изменяется непрерывно, по законам, напоминающим классическую механику. Но если система входит в критическую точку, ее дальнейшее изменение зависит от не поддающихся учету небольших случайных воздействий и становится непредсказуемым. Например, тяжелое тело, находящееся на горном склоне, под действием силы тяжести скатывается по вполне определенному пути, который можно точно предсказать по начальному положению. Но если оно начинает движение с седловой точки перевала (см. рисунок), где оно находится в неустойчивом положении равновесия P, то оно может скатиться в двух разных направлениях (РА и РВ). При любом другом начале движения путь тела мало меняется от небольшого изменения начального положения. Но при исходном положении Р сколь угодно малое воздействие приводит к тому, что тело движется в разные стороны и со временем приходит в разные места.
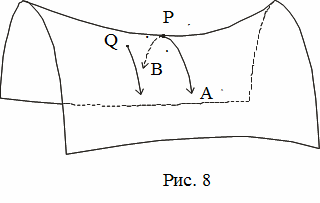
Такие критические точки были давно известны в механике под названием «точек бифуркации».8 Их систематическое изучение и классификация составляют предмет теории катастроф.
Критические ситуации в истории имеют сюда прямое отношение. История человеческого общества изобилует примерами этого рода, когда судьба целых наций и массовых движений зависела от незначительных случайностей. Пожалуй, самым ярким примером такой случайности был бесславный конец Российского Учредительного Собрания, заседавшего единственный раз 5 января 1918 года. Государственный переворот, названный Октябрьской Революцией, удался благодаря поддержке небольшого меньшинства матросов и питерских рабочих. Гарнизон Петербурга колебался. Броневой дивизион, потерявший доверие к большевикам, предложил охранять Учредительное Собрание. Но лидер эсеров Виктор Чернов, имевший уже в Собрании 60% голосов, с негодованием отверг это предложение: он полагал, что никто не посмеет посягнуть на избранников народа. Ленин послал другую охрану, и судьба русской демократии была решена. Очень вероятно, что если бы Собрание могло продолжить свою работу, то вокруг него собралось бы устойчивое большинство народа, вовсе не стремившееся к утопическим целям большевиков, и не было бы «советской власти». Случайное событие, происшедшее в критической ситуации, определило дальнейший ход истории.
С критическими точками тесно связан старый вопрос, развивается ли история по определенным законам, или зависит от случайных событий. Старые историки склонялись скорее к последней точке зрения, сосредоточивая внимание на исключительных личностях, войнах и революциях. Историки-детерминисты, подражавшие методам физики, рассматривали, напротив, происходившие в обществе закономерные процессы и периоды их беспрепятственного развития. В действительности этот старый спор решается теорией катастроф. Периоды мирного развития соответствуют предсказуемому поведению системы вдали от критических точек, но если система входит в критическую точку, происходит катастрофа. Внутренний кризис называется революцией, а внешний – военное нападение – означает обычно кризис в соседнем государстве. В свете нового подхода случайность истории перестает казаться столь загадочной.
Мы находимся в самом начале развития этих методов, но можно отметить существенную черту, отличающую их от старых подходов: они доставляют не количественное, а качественное описание явлений природы. Только таким образом можно, как правило, исследовать поведение сложных систем. Переход к качественному описанию составляет важнейшее отличие современной математики от классической. Философы – насколько они вообще следили за развитием науки – обратили внимание на возросшую роль теории вероятностей, в связи с вероятностным способом описания, утвердившимся в квантовой механике, но вряд ли даже заметили революцию в математике, произведенную топологией.
Конечно, от катастроф, изученных математиками, еще очень далеко до сложных общественных явлений, послуживших стимулом к нашему исследованию.9 Но уже сейчас можно понять, например, загадочный аспект классовой борьбы, встречавшийся нам в нескольких местах этой книги.
Социальный инстинкт и связанный с ним инстинкт устранения асоциальных паразитов, присущие всем особям нашего вида, неизбежно действуют во все исторические эпохи. Но в эпохи полного порабощения трудящихся, в деспотических государствах Древнего Востока, массы крестьян оставались в повиновении в течение тысячелетий, и только в редких случаях восставали против своих господ, как это было в Египте и в Китае. Мы не можем обнаружить причины этих катастроф, поскольку не находим в исторических данных никаких особенных изменений, объясняющих такие явления.
Другим примером социальной катастрофы, возникшей без видимой причины, была Французская Революция 1789 года. Эта революция вспыхнула в условиях, хорошо известных историкам, и вовсе не в период самых тяжелых страданий угнетенного населения. Напротив, это было время либеральных реформ, предпринятых с целью улучшить положение бедных классов, время, когда, как надеялись, созыв Генеральных Штатов станет началом постепенного устранения феодальных привилегий. Токвиль в своей знаменитой книге «Старый режим и революция» (L'ancien régime et la Révolution, 1856) отметил этот парадоксальный факт, и даже обобщил свое замечание. Согласно Токвилю, революции вообще происходят не тогда, когда положение народа тяжелее всего, а, напротив, в периоды реформ, когда это положение пытаются улучшить. Если даже это эмпирическое наблюдение справедливо, Токвиль не делает никакой попытки его объяснить.
Октябрьская Революция могла бы послужить подтверждением тезиса Токвиля, поскольку в России также проводились реформы и начиналось, в некоторой форме, представительное правление; но, в отличие от Франции, обе русских революции были очевидным образом связаны с военными поражениями, так что тезис Токвиля не кажется в этих случаях вполне убедительным. Больше подходит к нему конец Советского Союза. Реформы Горбачева, начатые в мирных условиях, при отсутствии каких-либо признаков серьезной оппозиции, привели к катастрофическому распаду государства.
Я предложил выше, в главе 4, более общую интерпретацию социальных катастроф. Я предположил, что они происходят в случаях, когда к привычным формам жизни прибавляются необычные новшества, не входившие в традицию. Теперь я имею возможность дать более последовательное объяснение таких явлений, как мне кажется, бросающее некоторый свет на «парадокс Токвиля». В самых общих чертах, оно состоит в следующем.
Как уже было сказано, в культурной системе, находящейся в видимом равновесии, неизменно действуют силы инстинкта устранения асоциального паразитизма и инстинкта внутривидовой агрессии. Но в обычных условиях эти силы компенсируются противодействием других сил – религиозной традицией, обожествляющей власть фараона или царя, чувством кастовой неполноценности, делающей человека существом низшей породы в его собственных глазах, наконец, привычной покорностью, удерживающей человека в том положении, в каком с незапамятных времен оставались его предки. Неподвижность кастового общества была результатом равновесия этих сил, которые сами по себе никогда не исчезали. Однако органы чувств человека предназначены для приема информации, то есть, по определению этого понятия, для восприятия различий. Пока нет изменений, органы человека не срабатывают, и человек спокоен. Точно так же человек не ощущает атмосферного давления, которое раздавило бы его, если бы не было равного давления внутри его тела. Но сравнительно небольшое изменение одной из действующих сил – в любую сторону – есть уже информация, побуждающая к действию. Стимулом социального беспокойства может быть, например, война, как это чаще всего бывало в двадцатом веке. Но война – сильное нарушение равновесия сил. Часто случается, что небольшое отягчение, и даже облегчение привычного бремени сдвигает психическое равновесие народной массы, высвобождая инстинктивное стремление сбросить с себя все это бремя. Таким образом, старое сравнение революций с землетрясениями означает некоторое общее свойство сложных систем, теряющих равновесие при относительно небольших изменениях действующих сил. Консерваторы интуитивно понимают эту опасность и преувеличивают ее, возражая против любых изменений общественного строя. Отчетливый анализ описанных выше явлений может облегчить изменения, необходимые для выживания культуры. Рассмотрим теперь пример только что описанного кибернетического подхода, где медленное изменение культуры очевидным образом ведет к катастрофе.![]()
Модель стимулируемого потребления. Фундаментальный факт, угрожающий гибелью нашей культуре, – это искусственно стимулируемое потребление и удовлетворяющее его производство, образующие положительную обратную связь. Такая экономическая система, господствующая в нынешнем мире, является результатом мучительных поисков равновесия, прошедших через кризисы и мировые войны. Ее видимая устойчивость, как можно показать, вводит в заблуждение: это всего лишь отсрочка социальной катастрофы.
Капиталистическое общество – общество с рыночной экономикой и наемным трудом – установилось в Англии в восемнадцатом веке, а затем распространилось на всю Европу, и вместе с европейской культурой – на весь мир. До середины двадцатого века развитие этой общественной системы было хаотично, то есть не делалось сознательных попыток на него влиять. Оказалось, что такое общество неустойчиво: каждые несколько десятилетий его потрясали экономические кризисы.
Вследствие связей, объединяющих мировую экономику, эти кризисы приняли всемирный характер. Наконец, великий кризис 1929 – 1932 годов поставил всю капиталистическую экономику на грань гибели. Правящие классы прибегли в то время к необычным средствам, вводя принудительное государственное регулирование: в Соединенных Штатах это были реформы Рузвельта, получившие название New Deel («Новый курс»), а в Германии – гораздо более радикальные средства нацизма, зашедшие дальше, чем это было желательно немецким капиталистам, и вызвавшие Вторую мировую войну.
Еще до этой войны Дж. М. Кейнс (1883 – 1946) развил идею государственного вмешательства в экономику, которая вскоре стала руководящей для правительств западного мира. После войны Я. Тинберген и Р. Фриш создали математическую теорию экономических циклов, которая объясняла это явление и доставляла средства предотвратить его вмешательством государства. Если бы понимание этого механизма было достигнуто раньше, то можно было бы предотвратить фашизм и Вторую мировую войну: в самом деле, после этой войны, несмотря на временные депрессии и колебания деловой активности, больше не было мировых кризисов, что несомненно объясняется государственным регулированием.
Устранение кризисов представляет важный пример роли, которую может играть наука в решении проблем современного общества. Однако это зависит не только от ученых, но и от правящих кругов, с трудом научившихся применять подсказанное учеными вмешательство.
Конечно, такое вмешательство, ставшее в наше время общим правилом, означает решительное нарушение принципов свободного рынка, все еще играющих важную роль в идеологическом оправдании капитализма. Поскольку большинство социалистов настаивало на государственном руководстве экономикой, современный западный мир уже в значительной мере представляет собой «государственный социализм» в стиле Сен-Симона.
Впрочем, регулирование экономики, применяемое в настоящее время, крайне примитивно. Его можно формулировать как стремление сохранить равновесие производства и потребления простейших материальных благ, без учета всех остальных потребностей человека. На языке теории катастроф, такое поддержание равновесия означает избежание критических точек общественной системы. Так как в странах Запада население почти не растет, это наводит, казалось бы, на мысль о статической экономике. Но в действительности происходит медленное изменение, ведущее к еще худшей глобальной катастрофе.
Под давлением конкуренции и технических новшеств происходит непрерывное совершенствование способов производства и, тем самым, рост производительности труда, что автоматически снижает потребность в рабочей силе. Как мы уже видели, для обеспечения всех материальных потребностей нынешнего населения развитых стран, то есть потребностей в еде, одежде, жилищах и средствах транспорта и связи, вполне достаточно труда 10-15 процентов этого населения. Отсюда возникают проблемы перепроизводства и занятости. Только недавно я слышал по американскому радио жалобы, что производство растет, конъюнктура как будто благополучная, а рабочих мест по-прежнему не хватает. В сущности, занятость – это главная забота правительственных экономистов, и это можно понять. Безработица – самый страшный предвестник социальной катастрофы.
Современное западное общество, с его примитивным потребительским мышлением, нашло до сих пор лишь один выход из такого положения: оно принялось выдумывать новые потребности. Конечно, подлинные потребности человека гораздо шире его материальных нужд. Это культурные потребности, подавленные не только у большинства наемных тружеников, но и у самих хозяев этого общества, и выходящие далеко за пределы экономической жизни. Все это больше не имеет значения. Специалисты выдумывают новые товары и услуги – новые виды еды, одежды, жилищ, новые средства транспорта и связи. Чтобы заполнить досуг мало работающих и эстетически неразвитых людей, выдумывают разные виды псевдокультуры, обычно упрощающие и пародирующие старую культуру. Таким образом возникли «желтая» печать, детективная литература, а затем, для совсем уже разучившихся читать, коммерческое радио и телевидение. Все эти новые виды продукции уже почти превзошли по своей трудоемкости продукцию материальных благ. Эта масса ненужных, как правило вредных товаров и услуг порождает непрерывно растущее производство, что дает возможность занять все или почти все население. Таким образом сложилось так называемое «общество массового потребления».
Мы отвлечемся теперь от более глубоких характеристик такого общества и рассмотрим чисто кибернетический аспект его развития. Допустим для простоты, что численность населения неизменна. Тогда основным и неустранимым фактором развития экономики остается «технический прогресс». Несмотря на отсутствие новых идей, способных разрешить главные трудности техники, поток изобретений и технологических новшеств не иссякает: его источником является почти безграничный «задел» современной науки. Предположим – опять-таки для простоты – что рост производительности труда постоянен, скажем, равен 2−3 процентам в год. Поскольку население, по предположению, постоянно, ежегодно на рынок труда приходит молодежь, вместо уходящих на пенсию. Но «технический прогресс» каждый год оставляет без работы 2−3 процента рабочей силы, то есть часть молодежи, начинающей трудовую жизнь. В описанной экономической системе это требует расширения производства, то есть создания новых «потребностей». Каждый год этот процесс повторяется: это и есть положительная обратная связь стимулируемого потребления.
Ясно, что перед нами циклический процесс, в котором технический прогресс создает искусственные потребности, а искусственные потребности стимулируют новые виды производства и, тем самым, технический прогресс. С каждым таким циклом «общество массового потребления» медленно, но верно приближается к критической точке – к катастрофе, подобной горным обвалам, лавинам или нашествиям саранчи. Люди научились избегать кризисов, обходя известные им пропасти, но медленно сползают в неизвестную, еще худшую пропасть. В природе положительная обратная связь редка и каждый раз завершается исчерпанием какого-нибудь ресурса. То же неизбежно произойдет с обществом стимулируемого потребления, если оно не найдет другого способа обеспечить свою устойчивость. Ограниченные ресурсы, которые положат конец «расширяющемуся производству» – это природные условия Земли и природные свойства человека.
Прежде всего, описанный циклический процесс истощает доступные запасы минерального сырья. Опасения этого рода высказывались давно, особенно в отношении нефти, угля и металлов. В действительности эти запасы оказались гораздо больше, чем предполагалось, причем многие вещества можно заменить другими. Гораздо опаснее исчерпание экологической емкости Земли, неспособной больше выдержать безудержную эксплуатацию природы. Экологическая катастрофа неизбежно прекратит циклическое расширение производства, даже независимо от всех других причин: наша Земля конечна.
Другой ограниченный ресурс, используемый в этим процессе, – выносливость человека. Происходящее теперь вырождение человеческого типа начинается с физической деградации. Состояние здоровья детей, растущих в разлагающейся культуре, ухудшается из года в год. Снижается доля молодежи, пригодной к военной службе, то есть здоровой в самом нетребовательном смысле этого слова. Общество, развивающее в своих членах искусственные потребности и не умеющее удовлетворить естественные, все больше превращается в больницу для людей, чаще всего не сознающих, что они больны. Эти экологические и популяционные факторы составляют отрицательную обратную связь, которая через несколько десятилетий положит конец лавине «стимулируемого потребления».
Но эта стихийная обратная связь несет в себе только разрушение. Развал современной культуры означал бы регрессию к культурам прошлого, из которых с таким трудом вышли наши предки, и повторение исторических процессов освобождения от этого прошлого, над чем сегодня бьются народы отсталых стран. Наша культура имеет важные преимущества, которые надо сохранить и развить. Для ее спасения нужны сознательные усилия людей. Критическое исследование культуры и ее радикальная реформа могут составить другую обратную связь, способную выполнить эту задачу. В последней главе я выскажу некоторые предположения об этой возможной реформе, выйдя за пределы научно доказуемых суждений, и позволю себе выразить некоторые пожелания и надежды.
1 Слишком разорваны мир и жизнь! /Я обращусь к немецкому профессору. /Он умеет соединять жизнь в одно целое /И сделает из этого понятную систему; /Клочками своего ночного колпака и халата/ Он штопает дыры мироздания.
2 Аппетенцией (ср. гл. 1) называется стремление к выполнению инстинктивно запрограммированных действий, наблюдаемое у животных – часто в виде спонтанно возникающих движений – даже при отсутствии объектов, возбуждающих инстинкт.
3 Это слово означает «совокупность взглядов, относящихся к миру и к положению человека в мире» (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache). Любопытно, что французский и английский языки не имеют для этого термина адекватного перевода.
4 Конец века (фр.). Это было обычным обозначением конца девятнадцатого века в декадентской литературе и философии.
5 Огюстен Коши (1789 – 1857) – французский математик.
6 «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества», гл.8.
7 Имеется в виду высказывание Канта: «. . . Любое исследование природы является наукой в той мере, в какой в ней используется математика». Примечательно, что Лоренц выражает здесь неодобрение мнению высоко ценимого им философа.
8 От лат. bi, означающего «удвоение», и furca – «двурогие вилы».
9 Впрочем, любопытно отметить, что одна из первых работ по приложениям теории катастроф имела своим предметом «бунты в тюрьмах».
Оглавление:
- Оглавление и введение
Глава 1. Инстинкт
Глава 2. Групповой отбор, происхождение человека и происхождение семьи
Глава 3. Социальная справедливость
Глава 4. Культура и поведение
Глава 5. Возникновение неравенства
Глава 6. Начало классовой борьбы
Глава 7. Христианство и средние века
Глава 8. Прогресс и его изнанка
Глава 9. Рынок и современная цивилизация
Глава 10. Начало капитализма
Глава 11. Начало социализма
Глава 12. Русская революция и коммунизм
Глава 13. Двадцатый век
Глава 14. Явление человека
Глава 15. Возможное будущее
Приложение. Общество потребления
